Дзуйхицу Лимонова — две фантазии о смерти для соло без оркестра
30 октября, 2020
АВТОР: Александр Чанцев

При чтении «Дневника неудачника»1 буквально бросаются в глаза японские темы и мотивы. Не говоря уже о самой форме книги, приличествующей скорее нашим временам различных сплавов фикшна, нон-фикшна, воспоминаний и эссе, но весьма инновационной и даже революционной для того времени. Так до Лимонова, плюс-минус, писал Шкловский — и это было очень давно. Лимонов же, на страницах своей книги часто мечтая о революции в современном обществе, по ходу совершил революцию в выстраивании повествования.
Которое, если копать дальше, является прямым аналогом древнего японского жанра дзуйхицу — «вслед за кистью». В нем авторы изысканной, предельно эстетизированной и куртуазной эпохи Хэйан фиксировали повседневное, лирически переходя от быта к философским обобщениям и обратно. Записывали без определенного сюжета и темы, крохотными предложениями или розановскими коробами побольше, в самом свободном стиле.
Жанр, кстати, был не одинок на Востоке — вспомним китайские «бицзи» и корейские «пхэсоль». А вот на Западе что-то подобное начали делать только французские философы и афористы, от Монтеня до Паскаля со всеми остановками.
Формой японское в «Дневнике» отнюдь не ограничивается. Япония накатывает на читателя уже начиная с названия. «Дневник» — очень японский жанр, тут можно привести целый список, от «Дневника эфемерной жизни» Х века до многих дневниковых вещей наших дней. Скрытные в быту японцы любят обнажаться в творчестве. «Неудачник» — о «трагическом герое», «благородстве поражения», защите обреченного дела ценой своей жизни и так далее как константе японской культуры целые трактаты написаны, смотрите самый доступный, переведенную книгу Айвана Морриса «Благородство поражения. Трагический герой в японской истории». Европейская культура этос поражения тоже скорее избегала — вспоминаются по касательной лишь шуты-юродивые-трикстеры, «Прекрасные неудачники» Леонарда Коэна и некоторые контркультурно-музыкальные явления наших дней («I’m a loser baby so why don’t you kill me?» — пел Beck и сорвал неплохой куш в виде гонораров).
А первые страницы — затем накал японского немного спадает, надо признать, — буквально бомбардируют японскими феноменами. На третьей странице:
«С одною смотрел из окна, молодой, двадцати двух лет был — пышно и томно целуясь. Пышная была женщина, томная. Смотрели в снег. Запах каких-то духов, октябрьско-ноябрьская пластинка и грусть. Со второю неоднократно тоже в открытое окно — снежинки волосами и губами ловя. Как был счастлив!»
Здесь я не удивился бы, признаюсь, увидев японское имя автора. Потому что японское тут даже построение фраз — японцы не любят «якать», всячески удаляют местоимение, заменяя его разными грамматическими способами (вплоть до разных слов и форм одного слова, описывающих действие, совершенное субъектом, его младшим братом, его начальником, великим сэнсэем, императором, вплоть до будд и ками). Любование снегом — явление японское, менее распространенное, чем цветением сакуры или луной, лишь в силу известного дефицита этого вида осадков. И осень, скрытая печаль, которую следует отметить особо, ибо она отсылает к таким категориям традиционной японской эстетики, как ваби-саби, югэн или же более редкое урэи, «поэтику горести» с красивым иероглифом — элемент «осень» над элементом «сердце». Грусть, грустное очарование вещей, их изысканность, замешанная на смертности и обреченности всего сущего, осознание чего не только возвышает душу, но и позволяет по-буддийски осознать порядок мироздание — японцы всегда очень любили грустить и делали это весьма творчески2. «Я люблю, когда грустно», декларирует на следующей странице лирический герой Лимонова и — грусти у молодого, бравого, лихого героя, мечтающего о «подвигах и славе», женщинах и революции, будет очень и очень много. Меланхолию разделят все герои: от «дикой грусти» «иссохшей старухи» до «грустного красношеего матроса с одинокого корабля» с невероятно синими глазами (случайная ремарка или нет? Ведь blue в американском английском и есть грусть, блюз, все коннотации соответствующего настроения). И даже «карьера майора из южной страны протекала под кипарисами и пальмами» и была грустной. Что уж говорить о главном герое, тоже очень по-японски слагающем стихи о тщете и подобной листкам отцветающей сакуры мимолетности всего сущего:
«Я люблю вечернее небо. Сужающийся летний вечер.
Тихую тоску собственной прошедшей юности.
И неожиданно Вас — мой милый друг».
«Милый друг» тут не как у Мопассана, но одного с героем пола, — а уж о частотности гомоэротической любви, поэзии и даже совместных двойных любовных самоубийств в японской литературе и истории говорить можно очень и очень долго, на несколько книг размером с «Повесть о Гэндзи»3, а не «Дневник неудачника».
Кстати, сказание о принце Гэндзи ассоциативно вспомнилось мне уже при чтении «Дневника». «И такое бывает», глубокомысленно вздыхает герой Лимонова после довольно вольного, скажем так, размышления о перипетиях уже разнополых любовных отношений. Тут не только стиль дзуйхицу тяготеет отчасти к сказовому нарративу исторической хроники, но и — мысль навеяли дела альковные, коим весьма часто придавался любвеобильный принц, его родственники, слуги и прочие.
Гиперактивный, как уже отмечалось, герой «Дневника» вообще часто предается меланхолическому созерцанию буквально всего. Что подчеркивается его оптикой. Он то смотрит из окна на улицу: «Грустно и тогда, когда в марте-апреле нет денег и идет снег. Как сейчас. И облупленные здания Бродвея в окне, и ты переселился — четвертый день живешь в грязном отеле один, уже второй год без любви». То, наоборот, с улицы в окно: «Если целый день писать, а под вечер включить все две лампы в каморке, вылезти на узкий балкончик отеля и поместиться там, максимально отклонившись к улице и к небу, — то можно видеть со стороны: как бы ко мне люди пришли, как бы праздник. Еще если стаканов на стол наставить». То есть — охватывает весь окоем, всю доступную взгляду свою вселенную. И тема взгляда из/в окно, кстати, венчается финальным, очень минорным (блюзовым!) аккордом в самой последней, написанной буквально накануне смерти книге «Старик путешествует»: «Как ребенок, сижу под окном, как ребенок в рождественскую ночь, и мечтаю… о прошлом». В «Дневнике» же идет не только созерцание пейзажа, но и оное фиксируется с помощью ремарок, очень и очень характерных для дзуйхицу. Вот как, с нарушением пунктуации, фиксируется опять же двойной взгляд — и на пейзаж, и на рисунок. «И только припадок пейзажа. Да кусок глаза. — так написал, глядя на китайский рисунок». Китайские рисунки-свитки можно найти в токонома у многих красавиц, красавцев, мудрецов эпохи Хэйан, а вот в «Записках у изголовья» Сэй Сёнагон очень похожая на лимоновскую интроспекция, то есть опять и опять же двойное наблюдение не только красоты и грусти этого мира, но и производимого им в душе эффектом: «Я подумала: “Чудесно сказано! Пусть же тысячу лет пребудет неизменным этот прекрасный лик”».
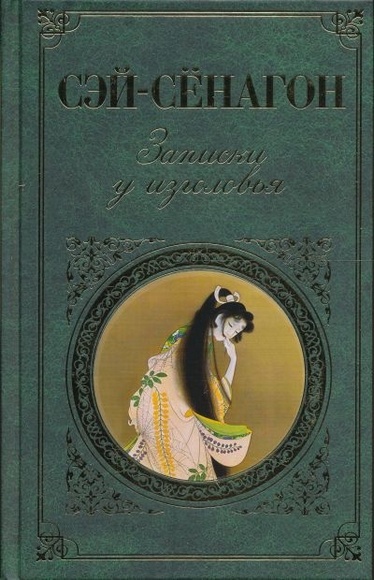
Дальше в книге более чем изрядно заданный японский вектор будет дробиться, станет более дискретным. Но будет повсеместен — от конкретного японского ресторана в Нью-Йорке до воспоминаний из совсем юности о составлении букетов (хоть не икэбана и бонсай!) из диких тюльпанов на радость себе и возлюбленной. Кажется, такая дискретность сознательна. Можно было бы представить автора, который нагнетал бы определенные японские темы с какой-либо целью, — например, уравнять автобиографического героя с каким-нибудь самурайским персонажем, чем ками с буддами ну шутят. Лимонову это не нужно. Японское у него просто везде разлито в тексте. Можно сказать, что и бесцельно. Ведь нет цели и у японской эстетики. В ней точно нет абсолютной красоты — красота должна быть чуть нарушена, с маленьким изъяном, намекая тем самым на негармоничность и обреченность мироздания (ср. у Лимонова с похвалой способности «любить непростое, и даже гнилое»). А созерцание этой нарушенной красоты должно манифестировать лишь одну мысль — о бренности мира, необходимости выйти из колеса перерождений, покинуть не только тварный, но и загробный мир ради блаженного растворения в Великой Пустоте, нирване.
Лимонов, конечно, так далеко не идет (научпоп из буддизма в форме романов уже в наши дни будет вовсю писать Пелевин), он пишет не теологический трактат по буддизму (в буддизме теологии как таковой и нет, но уж точно совсем другой вопрос). А вот смерть, окончание жизни ему крайне важны. Отсюда разнообразнейшие и постоянно повторяющиеся рефлексии-медитации о смерти молодым, смерти в бою, смерти в неволи и т.д. и т.п. Что интересно, в фантазиях о смерти преобладают так же явно и ярко выраженные японские мотивы. Вот фантазия о смерти № 1:
«Идет снег, и я думаю, что хорошо бы отравиться какой-нибудь яркой гадкой жидкостью, оставив ее немного недопитой на столе, в тонком стакане. Отравиться, глядя в снег. Сделать это от восторга перед жизнью, от восторга только, от восхищения и восторга». Перед нами опять предельное эстетизирование (привет Гэндзи и Дез Эссенту Гюисманска), созерцание снега, не только эстетика, но и этика японского самоубийства, которое, в отличие от большинства европейских суицидов, весьма часто может быть совершенно не по случаю предельного краха, болезни, несчастной любви (привет Вертеру!) и прочих жизненных неурядиц, но из-за вещей положительных, с позитивной мотивацией и положительным посылом. Самый распространённый случай — невинно в чем-то обвиненный, проигравший сражение или не смогший в силу непреодолимых обстоятельств исполнить свой долг благородный муж кончает с собой и тут же из «неудачника» становится победителем. Все рыдают над его предсмертным стихотворением и тут же следуют за ним — жены, дети и слуги из долга, враги — от признания своего, в итоге, морального поражения, кто-то — просто от восторга поэтического момента, за компанию, чего уж там, все там будем, умирать так с песней, то есть стихотворением.
Именно такую самурайскую, исполненную благородства и красоты смерть и придумывает себе герой — см. фантазию о смерти № 2:
«В полевых условиях (умирать, — А.Ч.) куда лучше — бултых в пахучую траву и что-нибудь изящное успеваешь часто перед смертью приятелю сказать, а то, глядишь, и подругу по личику погладить успеешь»4.
Здесь, — а скорее, в начале наших размышлений, по академическому жанру, — стоило бы предположить, что Лимонов, во время своего напряженного чтения-самообразования в родном Харькове, мог прочесть что-нибудь из советских переводов из той же японской поэзии, так как английский он во время написания «Дневника неудачника» только осваивал, а французский выучит позже во Франции. Или более поэтично предположить, что общность с японской эстетикой присутствовала у него имплицитно изначально. Первую фантазию могли бы подтвердить или опровергнуть более внимательные чтецы лимоновских произведений или вполне живые знавшие его лично. Вторую фантазию, на примере Мисимы, которого Лимонов уже точно читал до каких-либо переводов на русский во Франции на языках, я уже развивал в своей книге5. Пока же пусть эти две фантазии о жизни уравновесят, как инь-ян, две фантазии о смерти.

Примечания
1 Этими заметками я хотел бы продолжить свое перечитывание любимых вещей Э. Лимонова, начатое, разумеется, с «Это я — Эдичка». См.: Чанцев А. «Эдичка» — классическое упрямство любви // Перемены. 2020. 20 июня.
2 О некоторых особенностях японской меланхолии см.: Чанцев А. // Неприкосновенный запас. 2013. 3.
3 Как и про «Улисс» Джойса, про книгу шутят, что ее никто не прочитал до конца. Впрочем, в Японии популярен жанр кратких аддаптаций с осовремененным языком — так что есть шанс, что с книгой знакомы все же многие.
4 Фантазий о смерти числом, конечно, больше — гипотетическим самоубийством заканчивается и сама книга: «И пока они лезут в двери и окна — выпрямиться на несгораемой крыше и пустить себе жаркую пулю в висок. Прощайте!»
5 «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова».

